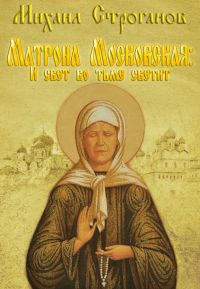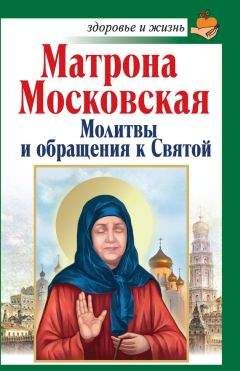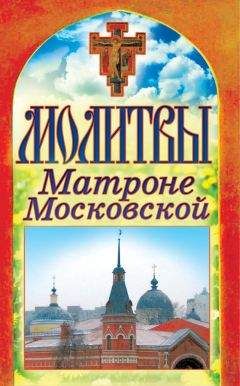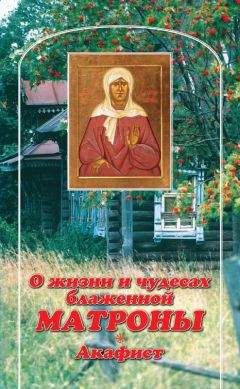С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Ein Friihling, der kein Vogelzug,
Wo eine Spur, die ewig treu,
Ein Gleis, das nicht stets neu und neu,
Ach, wo ist Bleibens auf der Welt,
Ein redlich, ein gefriedet Feld,
Ein Blick, der hin und her nicht schweift
Und dies und das und nichts ergreift,
Ein Geist, der sammelt und erbaut?..
(«Где бьется сердце, в чувстве которого — постоянство? Где блещут волны, не каждый миг возмущаемые? Где покоится почва, не каждый миг развеиваемая? Где материнское лоно, вовеки не охладевающее? Где зеркало — не для любого облака? Где почва, где кров, где щит, где небо — не просто бег облаков, где весна — не просто лет птиц, где след, который верен вовеки, где колея, которая не прокладывается каждый миг заново? Ах, где в мире устойчивость, где честная, огражденная нива, где взор, который не скользит туда и сюда, чтобы схватить это и то — и ничто? Где дух, который строит и собирает?»)
Жалобу Брентано на «ужасающую саморастрату», на злую судьбу, обрекшую его прозакладывать свой дух во всех стихиях, невозможно с легким сердцем свести к литературному приему, к условным общим местам романтической лирики; она до последней степени нешуточна и реальна без всяких иносказаний. И все же не стоит забывать, что ее достоверность — это достоверность поэзии, то есть достоверность мифа. У мифа есть бесспорное биографическое соответствие, но он на то и миф, чтобы преобразовывать биографию на свой лад, по своим собственным законам, и не совсем хорошо поступит тот, кто поймет миф чересчур буквально — вот–де Брентано сам сознался, что растратил свою жизнь и свои дарования попусту, о чем еще говорить?
Конечно, нет ничего странного, что современники, как–никак приученные веймарской классикой к совсем иному типу поэта и шокированные тем, что было в их глазах фатальным нарушением чувства меры, бесперспективным авантюризмом в жизни и литературе, до такой степени принимали за чистую монету творимый самим Брентано образ беспутного гения, не сумевшего реализовать себя, да еще активно соучаствовали в этом мифотворчестве. Равным образом, когда Гейне (впрочем, многому у Брентано научившийся и высоко его ценивший) превратил ходячие толки в отточенный и элегантный пассаж из «Романтической школы», блистающий риторическими парадоксами насчет гения Брентано, одержимого манией разрушения, Zerstorungssucht, который под конец, когда уже не оставалось, что бы еще разрушить, разрушил самого себя, — это просто по правилам жанра полагается понимать как игру ума, заранее издевающуюся над топорной серьезностью понимания и не выдающую себя за трезвый, сбалансированный анализ. Почтенные профессоры кайзеровской Германии не были похожи на Гейне и обычно не любили его, но Брентано тем менее мог им импонировать: его безудержность оскорбляла их здравомыслие, полубезбожные выходки его ранних лет[224] и последовавшее католическое обращение возмущали их профессорский протестантизм, основанный на принципе бюргеров цветаевского Гаммельна «только не передать», а что до его поэтики, она была для вкуса второй половины XIX века одновременно на поверхности до курьеза вчерашней, в глубине — непростительно завтрашней. Все некстати, все невпопад — конечно, неудачник! Наконец, эстеты начала нашего века оказывали Брентано больше уважения; но, поскольку он не годился в герои «абсолютной поэзии», ему отводилась страдательная роль жертвы. «Он должен был дорасти до священного величия — или разрушить себя. Тогда он разрушил себя»[225].
Сам Брентано и Гейне, профессоры и эстеты — все они были такие разные, и все они дружно творили и распространяли один и тот же миф. Но со временем миф обнаруживает свою природу, и повторять старые фразы становится все более сомнительным занятием. Опыт поэтов, более близких нам по времени, чем Брентано, должен был бы раз и навсегда научить нас, что поэзия, которая знает о саморазрушении, — не совсем то же самое, что поэзия саморазрушения, и совсем не то же самое, что саморазрушение поэзии.
С мифом о неудачнике естественно соседствует миф о бессознательном и безвольном гении, экстатическом знахаре, ворожившем над словом без плана и замысла, пассивно подчинявшемся внушениям языка. «Брентано не налагает на язык своей воли… Не он владеет языком, но язык владеет им», — писал видный швейцарский литературовед Эмиль Штайгер[226]. Эти слова можно принять как метафору, как подступ к одному из аспектов феномена Брентано — но не более. Одновременно с ними для восстановления равновесия полезно вспомнить протестующий выпад Пастернака, сделанный по иному, однако аналогичному поводу: «Кем надо быть, чтобы представить себе большого и победившего художника медиумическою крошкой, испорченным ребенком, который не ведает, что творит»[227].
Брентано тоже «победивший художник». Этому не противоречат ни плодотворные неудачи его ранних экспериментов, ни блуждания и метания, которыми так обильна его биография. Вспомним Гёльдерлина перед абсурдом безумия и Пушкина перед абсурдом дуэли, вспомним Вер лена в бельгийской тюрьме и странную жизнь Александра Блока — большая поэзия чаще рождается из боли и страсти, чем из самосохранения и разумной экономии сил. Однако соотношение между большой победой Брентано и всеми его поражениями одновременно гораздо проще и гораздо сложнее, чем представляешь себе заранее.
* * *Жизнь Брентано — поистине лакомый кусок для психологов. Но в ней есть нечто, что можно понять только по–человечески, в обход всякой психологии. А поэзия Брентано должна быть понята из своих собственных законов и тоже в обход психологии. Однако разделить эти два предмета нелегко.
Взять хотя бы дату рождения. Мы–то знаем, что он родился 9 сентября 1778 года. Но он не мог обойтись без игры, переплетающейся с католической набожностью, и не передвинуть свой день рождения на сутки раньше, чтобы иметь честь родиться в один день с Девой Марией, чье имя входило в число его имен. Впрочем, этим же именем он подписал в молодости, задолго до обращения, свой «одичалый роман» «Годви» (1799—1800), который не назовешь ни благочестивым, ни благонравным, и это вносит неизбежную для Брентано диссонирующую ноту. Ничтожный вопрос о дне рождения — словно капля воды, в которой отражается весь человек с головы до ног, и картина такая такая, что лишь очень самоуверенный ум решится вынести о ней окончательное суждение. Тут все сразу: во–первых, до того тесное сближение вымысла и реальности, что концов не сыскать, и это не в книге, а в самой жизни; во–вторых, какая–то детская хитрость, наивная, старомодная, словно бы прямо из мира того старого слуги, описанного во вводных терцинах к «Романсам о Розарии», который пестовал маленького Клеменса и пророчил ему рыцарские приключения в брани с Антихристом, — и одновременно возможность стилизации, пуще того, травестии, в которой уже нет ничего наивного; а под этим или над этим — опять простодушие.
О чем говорит нам дата рождения Брентано? Он был сверстником Генриха фон Клейста, Фридриха де Ламотт Фуке и живописца Филиппа Отто Рунге (все трое родились в предыдущем, 1777 году). Имя Рунге существенным образом связано с именем Брентано; незадолго до ранней смерти художника между ними завязалась недолгая, но очень содержательная переписка. Можно вспомнить, что в 1778 году вышло первое издание гердеровских «Народных песен», позднее переименованных в «Голоса народов»; начиналась та работа по открытию для образованного читателя сокровищ фольклора, в которой Брентано предстояло принять самое живое участие. В год рождения поэта по всей Европе лились слезы — навсегда закрыл глаза Жан–Жак Руссо, человек, сделавший больше кого бы то ни было другого, чтобы дать неслыханные права субъективности и сделать личное самовыражение суверенным явлением культуры. Романтики не слишком чтили Руссо, но без него они были бы немыслимы.
Происхождение тоже что–то значит. Отец — выходец из Италии, прибывший по коммерческим делам в Германию и осевший во Франкфурте–на–Майне. Семья купеческая, франкфуртская — тут и знакомство семьями с франкфуртским уроженцем Гёте, и ставшие, как водится, первой жизненной маетой поэта безнадежные попытки приспособить его к наследственной профессии. Фамилия итальянская — то, что поэт по крови был наполовину итальянцем, ощутимо не только в его физическом облике, в проворстве движений его тела и ума, в причудливой неожиданности выходок, но и в структуре его биографии, в особом тембре его артистичности и авантюрности, заставляющих вспомнить о неистовых мастерах итальянского барокко вроде Маньяско или Пиранези. Кое–что в его творчестве прямо связано с Италией: мотивы «Романсов о Розарии» почерпнуты из болонской хроники XVI века, сюжеты сказок — из «Пентамерона» графа Джамбаттиста Базиле, одного из самых ранних сказочных сборников Европы. При всем том Брентано — едва ли не самый немецкий среди всех немецких романтиков, пристальнее других вслушивавшийся в музыку немецкого языка, в интонации немецкой народной песни; но рядом с окружавшими его немцами, рослыми и голубоглазыми, флегматичными и солидными, чувствуется, до чего он — иной. Мать Брентано — та самая Максимилиана фон Ларош, которая была предметом восхищения для молодого Гёте, бабушка по материнской линии, София фон Ларош, составила себе имя как писательница; литературоведы отмечают влияние ее романа «История девицы фон Штернхайм» на «Страдания юного Вертера». Эта романистка из эпохи Ричардсона дожила до романтических порывов своего внука и не без иронии комментировала их: «Я, конечно, всегонавсего старая женщина и не в состоянии последовать за юными, только что оперившимися орлами на их выси, мне даже не дано разглядеть в очки след, оставляемый ими в облаках»[228].